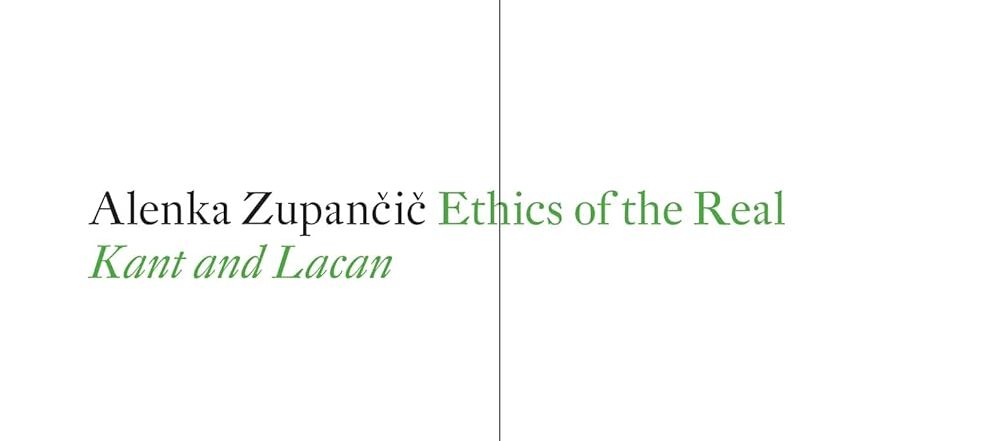Три этики: благо, Кант, Лакан
Этим текстом мы начинаем чтение фундаментальной книги Аленки Зупанчич “Этика реального”. Первую главу автор посвятила общей рамке, на которой будет основано последующее исследование. Эта рамка основана на трех пунктах: этика блага, этика Канта и этика Лакана.
Этика блага
Этика блага уходит корнями в античную традицию: для Аристотеля и стоиков высшим благом была гармоничная и полноценная жизнь. Считается, что нравственность должна стремиться к счастью и благополучию человека. В классической этике с эпохи Аристотеля главным вопросом было: «что есть благо для человека?» – целью считалось определить высшее благо, ориентация на которое обеспечит человеку «хорошую, удавшуюся жизнь». При этом такая телеологическая перспектива предполагает, что долг и природные склонности не противоречат друг другу: поступок признается «правильным», если он способствует достижению блага и согласуется с истинными интересами субъекта. Стоическая этика дополняет это, определяя благо как жизнь «в согласии с природой» (разумом) и полагая, что единственным истинным благом является добродетель, достаточная для счастья.
В новоевропейской этике эта традиция получила развитие в утилитаризме: Джереми Бентам и Джон Стюарт Милль сформулировали принцип наибольшего счастья. Согласно утилитаризму, морально правильным является то действие, которое максимизирует общее количество счастья или пользы. То есть считается «морально правильным то, что способствует максимизации общего количества блага, достижению ‘наибольшего счастья наибольшего числа людей’». Иными словами, этика блага ориентирована на некое положительное цельное благо, и этическим считается то действие, которое приближает к «хорошей жизни» или «общему благу».Этика по Канту
Иммануил Кант радикально порвал с утилитарной традицией этики блага. В кантовской этике нравственный закон автономен и не связан ни с преимуществом, ни с личным счастьем субъекта. Кант категорически различает действия «по склонности» (из-за желания счастья) и «согласно долгу» (из-за уважения к нравственному закону). Главным принципом здесь становится категорический императив: действуй так, чтобы максима твоего поступка могла бы стать всеобщим законом. При этом моральный закон для Канта – данность разума, независимая от эмпирических целей, и он не предписывает конкретных благ. Кант подчеркивает, что этика, ориентированная на счастье, вносит внешние (внеморальные) мотивы в волю субъекта и потому является гетерономной, тогда как моральная воля должна определяться автономно, изнутри себя. Волевое начало воли у Канта – это автономия: «свободная воля есть сама себе законом», следовательно моральный поступок оценивается не по результатам (счастью), а по мотиву уважения к долгу. Из этой позиции у Канта действительно «приоритет правильности над благом», а долг предстает как основной нравственный феномен. Кант сознательно противопоставляет свой подход утилитарной этике: его главное требование – «долг следует исполнять» – не связано с максимизацией блага, и «моральный закон» не диктует ни одного конкретного счастья. В результате для Канта добродетель и счастье расходятся: хотя добродетель вознаграждается идеей блага, «моральный поступок не гарантирует счастья» и не ставит его своей целью.
Этика по Лакану
Жак Лакан, переосмысливая кантовскую этику, формулирует кардинальный этический принцип: «не сдавайся в своем желании!». Для Лакана в основе этики не утилитарная польза и не абстрактное благо, а верность собственному бессознательному желанию. Моральный поступок этики желания оценивается по тому, соответствует ли он подлинному желанию субъекта, а не по результатам или удовольствию. Лакан указывает, что «благо» он приравнивает к психоаналитическому концепту «наслаждение», а затем отрицает «благо» как опору морали: «Этика желания — это этика без идеала, идущая против Блага». Иными словами, пациент (или человек) должен слушаться своего желания даже в ущерб безопасности или счастью. Такова судьба Антигоны: она проходит через запрет законов города ради похорон брата, отвергая «комфорт» и «прилив удовольствия» – один из «побочных эффектов» её желания обретение смерти.
Ключевой момент у Лакана – связь этики с Реальным. Источником оценки поступка является желание субъекта и именно его отношение к Реальному (непосредственному опыту). Иными словами, у этике Лакана нет заранее заданной цели, «пространство поступка всегда мыслилось как „здесь и сейчас“». При этом «категорический императив» Лакана – это собственное желание, и отказ следовать ему неизбежно влечёт чувство вины. Этическая задача субъекта для Лакана – выйти навстречу своему желанию и встретиться с тем, что говорит о разрыве, травме или невозможности внутри себя.
Общие черты этики Канта и этики Лакана
И Кант, и Лакан отвергают утилитарный подход «этики блага»: для обоих мораль не о счастье. Кант подчеркивает автономию нравственного закона от «утилитарных» целей (наслаждений, успеха), а Лакан явно отрицает само благо как нравственный ориентир. В обоих подходах существует чуждое требование, стоящее над личным интересом: у Канта это категорический императив – абстрактный закон разума, предписывающий действовать по универсальным правилам; у Лакана – желание как форма Реального, не поддающегося воле и символизации. В результате у Канта и у Лакана этика связана с разрывом и негативностью, а не с гармонией. Кант требует слепо подчиниться требованию долга независимо от естественных стремлений, а Лакан – подчиниться бессознательному желанию, пусть оно ведет к конфликтам и разрушению. Оба автора акцентируют автономию этики от утилитарных расчётов: Кант прямо противопоставляет свою деонтологию «гедонизму, эвдемонизму, утилитаризму», а Лакан уважает форму долга вне зависимости от каких-либо обещанных выгод.
Отличия этик Канта и Лакана от этики блага
- Цель и обещания. Этика блага обещает полноту, гармонию и счастье через достижение конечной цели. Классическая этика учит, что ориентация на высшее благо «позволит человеку прожить хорошую, удавшуюся жизнь» и что «правильное» — то, что способствует благу. Напротив, этики Канта и Лакана обещают разрыв и невозможность. У Канта долг не гарантирует наслаждения, а блаженство является лишь идеей разумного ожидания. Лакан же вообще объявляет этику «без идеала» – её максимы («не сдавайся в своем желании») не предполагают гармонию, а даже призывают к столкновению с травмой.
- Цель морали. Этика блага исходит из позитивной цели: счастье или полезность (utility) – то есть ответственность за благо выступает мотивом действий. В утилитаризме цель счастья стоит перед моралью, а «правильность» понимается как максимизация блага. Кант и Лакан доказывают противоположное: для них этика не имеет заранее заданного «телоса», цели. Кант подчеркивает, что нравственный закон априори не может «предписывать чего-то определённого», он «независим от эмпирического содержания» и не ставит целей. Аналогично Лакан говорит, что его этика нетелеологична – у неё нет предписанного содержания поступков, «пространство поступка… происходит здесь и сейчас», а «источник… поступка – желание».
- Воля субъекта. В этике блага субъект ориентируется на свою естественную склонность к счастью: добродетель и долг должны «служить достижению высшего блага», причем «долг и склонность не противопоставлялись друг другу». У Канта и у Лакана ситуация обратная: субъект подчиняется чуждому закону или желанию, часто не совпадающему с его инстинктами. Кант говорит, что истинной мотивацией морального поступка должно быть не стремление к личному счастью, а всеобщий долг (категорический императив). Лакан же требует верности бессознательному желанию – и если оно противоречит счастью (как в примере Антигоны), это не отменяет долга желания. Оба подхода подчеркивают автономию мотивации: Кант настаивает, что гедонизм/утилитаризм (погоня за удовольствием) – это гетерономный подход, а Лакан говорит, что стремление к удовольствию реально мешает следовать желанию и «благо» становится препятствием.
- Гармония vs. Реальное. Этика блага ставит во главу угла гармонию с собой и обществом: человек должен стремиться к согласованной «хорошей жизни» для себя и других. В этике Канта и Лакана наоборот происходит «встреча с Реальным» – с тем, что нарушает гармонию. По Кантy, свободная воля определяется не природными склонностями, а требованием закона, и человек может чувствовать себя разорванным между долгом и счастьем. В лакановской этике субъект сталкивается с пустотой своего желания: подлинный долг «определяется уникальной формой связи субъекта с Реальным», а не со спокойной добродетелью. Таким образом, если этика блага строится на обещании целостности и благополучия, то этика Канта и Лакана подчеркивает негативное, «разрушительное» начало в морали – то, что вырывает человека из привычной гармонии, заставляя встретиться с непрояснённым ядром своего «я».
Эти три модели этики предлагают принципиально разные представления о том, к чему должны стремиться люди. Этика блага (этика удовольствия и счастья) ориентирует на позитивную цель – хорошую жизнь и общее благо. Кантовская этика долга и лакановская «этика желания» ставят во главу угла автономию морального закона (императива или желания) и разрыв с утилитарным расчётом. Этим они показывают, что истинная моральность не определяется простым достижением счастья или пользы, а сопряжена с преодолением внутренних конфликтов, с верностью требованию, чуждому личным интересам.